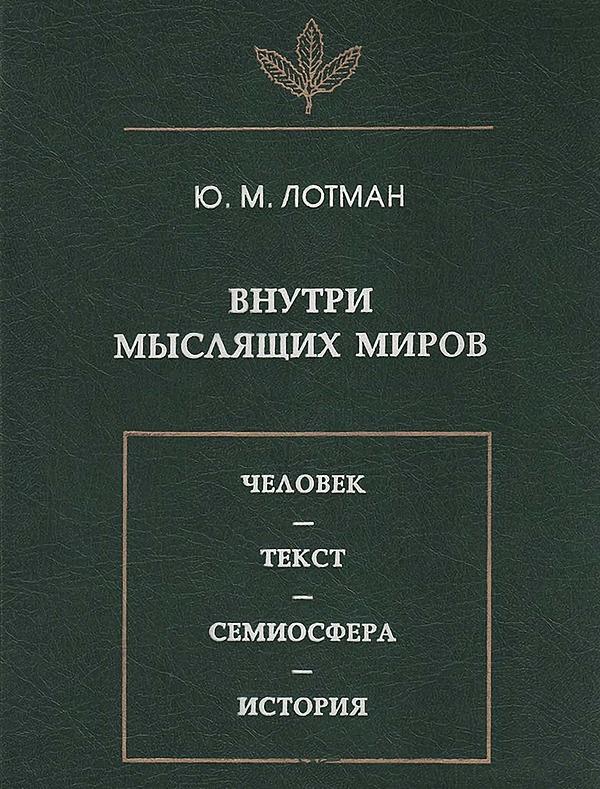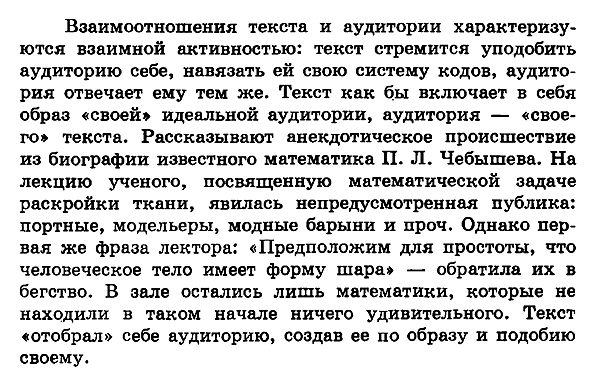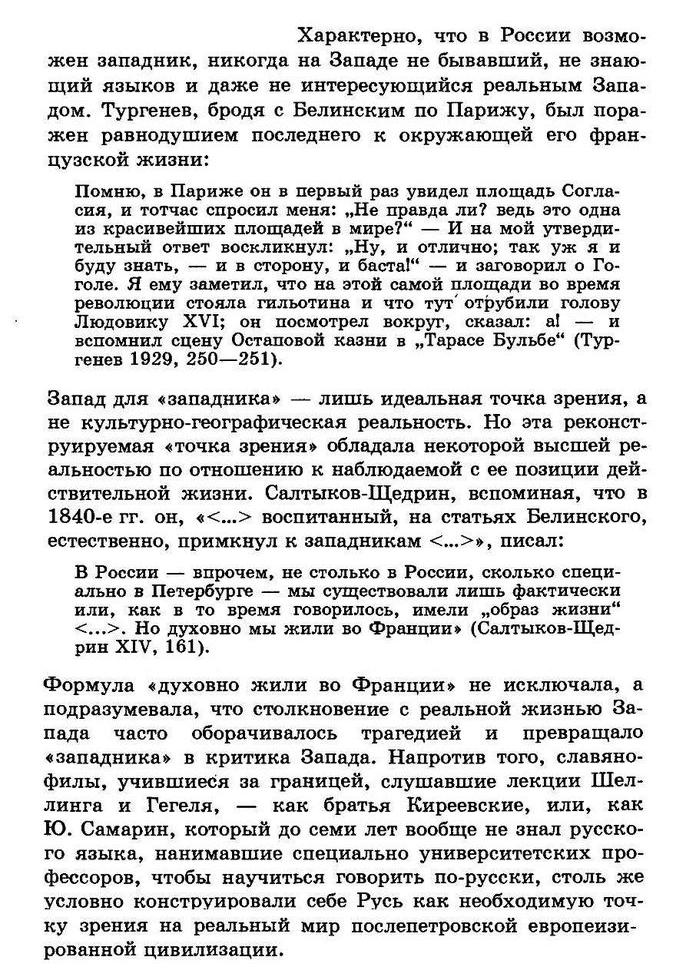
Характерно, что в России возможен западник, никогда на Западе не бывавший, не знающий языков и даже не интересующийся реальным Западом. Тургенев, бродя с Белинским по Парижу, был поражен равнодушием последнего к окружающей его французской жизни:
Помню, в Париже он в первый раз увидел площадь Согласия, и тотчас спросил меня: «Не правда ли? ведь это одна
из красивейших площадей в мире?» — И на мой утвердительный ответ воскликнул: «Ну, и отлично; так уж я и буду знать, — и в сторону, и баста!» — и заговорил о Го голе. Я ему заметил, что на этой самой площади во время революции стояла гильотина и что тут отрубили голову Людовику ХУГ; он посмотрел вокруг, сказал: а! — и вепомнил сцену Остаповой казни в «Гарасе Бульбе» (Туртенев 1929, 250—251).
Запад для «западника» — лишь идеальная точка зрения, а не культурно-географическая реальность. Но эта реконструируемая «точка зрения» обладала некоторой высшей реальностью по отношению к наблюдаемой с ее позиции действительной жизни. Салтыков-Щедрин, вспоминая, что в 1840-е гг. он, «<...> воспитанный, на статьях Белинского, естественно, примкнул к западникам <...>», писал: В России — впрочем, не столько в России, сколько специально в Петербурге — мы существовали лишь фактически или, как в То время говорилось, имели «образ жизни» <...>. Но духовно мы жили во Франции» (Салтыков-Шедрин Х1У, 161).
Формула «духовно жили во Франции» не исключала, а подразумевала, что столкновение с реальной жизнью Запада часто оборачивалось трагедией и превращало «западника» в критика Запада. Напротив того, славянофилы, учившиеся за границей, слушавшие лекции Шеллинга и Гегеля, — как братья Киреевские, или, как Ю. Самарин, который до семи лет вообще не знал русского языка, нанимавшие специально университетских проФессоров, чтобы научиться говорить по-русски, столь же условно конструировали себе Русь как необходимую точку зрения на реальный мир послепетровской европеизированной цивилизации.